Subtitle "Afrikaans" was produced by machine.Subtitle "አማርኛ" was produced by machine.Subtitle "العربية " was produced by machine.Subtitle "Ārāmāyâ" was produced by machine.Subtitle "azərbaycan dili " was produced by machine.Subtitle "беларуская мова " was produced by machine.Подзаглавието "България" е създадено от машина.সাবটাইটেল "বাংলা " মেশিন দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।Subtitle "བོད་ཡིག" was produced by machine.Subtitle "босански" was produced by machine.Subtitle "català" was produced by machine.Subtitle "Cebuano" was produced by machine.Subtitle "ગુજરાતી" was produced by machine.Subtitle "corsu" was produced by machine.Podtitul "Čeština" byl vytvořen automaticky.Subtitle "Cymraeg" was produced by machine.Subtitle "Dansk" was produced by machine.Untertitel "Deutsch" wurde maschinell erzeugt.Subtitle "Untertitel" was produced by machine.Ο υπότιτλος "Ελληνικά" δημιουργήθηκε αυτόματα.Subtitle "English" was produced by machine.Subtitle "Esperanto" was produced by machine.El subtítulo "Español" se generó automáticamente.Subtitle "Eesti" was produced by machine.Subtitle "euskara" was produced by machine.Subtitle "فارسی" was produced by machine.Subtitle "Suomi" was produced by machine.Le sous-titrage "Français" a été généré automatiquement.Subtitle "Frysk" was produced by machine.Subtitle "Gaeilge" was produced by machine.Subtitle "Gàidhlig" was produced by machine.Subtitle "Galego" was produced by machine.Subtitle "Schwizerdütsch" was produced by machine.Subtitle "هَوُسَ" was produced by machine.Subtitle "Ōlelo Hawaiʻi" was produced by machine.Subtitle "עברית" was produced by machine.Subtitle "हिन्दी" was produced by machine.Subtitle "Mẹo" was produced by machine.Subtitle "Hrvatski" was produced by machine.Subtitle "Kreyòl ayisyen " was produced by machine.Subtitle "Magyar" was produced by machine.Subtitle "Հայերեն" was produced by machine.Subtitle "Bahasa Indonesia " was produced by machine.Subtitle "Asụsụ Igbo " was produced by machine.Textun"Íslenska" var framkvæmt vélrænt.Sottotitoli "Italiano" sono stati generati automaticamente.字幕は"日本語" 自動的に生成されました。Subtitle "Basa Jawa" was produced by machine.Subtitle "ქართული" was produced by machine.Subtitle "қазақ тілі " was produced by machine.Subtitle "ភាសាខ្មែរ" was produced by machine.Subtitle "ಕನ್ನಡ" was produced by machine.Subtitle "한국어" was produced by machine.Subtitle "कोंकणी語" was produced by machine.Subtitle "کوردی" was produced by machine.Subtitle "Кыргызча" was produced by machine.Subtitle " lingua latina" was produced by machine.Subtitle "Lëtzebuergesch" was produced by machine.Subtitle "Lingala" was produced by machine.Subtitle "ພາສາ" was produced by machine.Subtitle "Lietuvių" was produced by machine.Subtitle "Latviešu" was produced by machine.Subtitle "fiteny malagasy" was produced by machine.Subtitle "te reo Māori" was produced by machine.Subtitle "македонски јазик" was produced by machine.Subtitle "malayāḷaṁ" was produced by machine.Subtitle "Монгол хэл" was produced by machine.Subtitle "मराठी" was produced by machine.Subtitle "Bahasa Malaysia" was produced by machine.Subtitle "Malti" was produced by machine.Subtitle "မြန်မာစာ " was produced by machine.Subtitle "नेपाली" was produced by machine.Ondertitels "Nederlands" machinaal geproduceerd.Subtitle "Norsk" was produced by machine.Subtitle "chiCheŵa" was produced by machine.Subtitle "ਪੰਜਾਬੀ" was produced by machine.Podtytuł "Polska" został utworzony przez maszynę.Subtitle "پښتو" was produced by machine.Legenda "Português" foi gerada automaticamente.Subtitle "Română" was produced by machine.Subtitle "Язык жестов (Русский)" was produced by machine.Субтитры "Pусский" были созданы машиной.Subtitle "Kinyarwanda" was produced by machine.Subtitle "सिन्धी" was produced by machine.Subtitle "Deutschschweizer Gebärdensprache" was produced by machine.Subtitle "සිංහල" was produced by machine.Subtitle "Slovensky" was produced by machine.Subtitle "Slovenski" was produced by machine.Subtitle "gagana fa'a Samoa" was produced by machine.Subtitle "chiShona" was produced by machine.Subtitle "Soomaaliga" was produced by machine.Subtitle "Shqip" was produced by machine.Subtitle "србски" was produced by machine.Subtitle "Sesotho" was produced by machine.Subtitle "Basa Sunda" was produced by machine.Undertext "Svenska" är maskinell skapad.Subtitle "Kiswahili" was produced by machine.Subtitle "தமிழ்" was produced by machine.Subtitle "తెలుగు" was produced by machine.Subtitle "Тоҷикй" was produced by machine.Subtitle "ภาษาไทย" was produced by machine.ንኡስ ኣርእስቲ "ትግርኛ" ብማሽን እዩ ተፈሪዩ።Subtitle "Türkmençe" was produced by machine.Subtitle "Tagalog" ay nabuo sa pamamagitan ng makina.Subtitle "Türkçe" was produced by machine.Subtitle "татар теле" was produced by machine.Subtitle "Українська " was produced by machine.ذیلی عنوان "اردو" مشین کے ذریعہ تیار کیا گیا تھا۔Subtitle "Oʻzbek" was produced by machine.Phụ đề được tạo bởi máy.Subtitle "Serbšćina" was produced by machine.Subtitle "isiXhosa" was produced by machine.Subtitle "ייִדיש" was produced by machine.Subtitle "Yorùbá" was produced by machine.Subtitle "中文" was produced by machine.Subtitle "isiZulu" was produced by machine.
kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV не носи отговорност за некачествен превод.অপর্যাপ্ত অনুবাদের জন্য kla.TV কোন দায় বহন করে না।kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV nenese žádnou odpovědnost za chybné překlady.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV übernimmt keine Haftung für mangelhafte Übersetzung.kla.TV accepts no liability for inadequate translationΗ kla.TV δεν φέρει καμία ευθύνη για ανεπαρκή μετάφραση.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV no se hace responsable de traducciones incorrectas.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise traduction.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV nem vállal felelősséget a hibás fordításértkla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV tekur enga ábyrgð á áræðanleika þýðingarinnarKla.TV non si assume alcuna responsabilità per traduzioni lacunose e/o errate.Kla.TV は、不適切な翻訳に対して一切の責任を負いません。kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve vertalingen.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe tłumaczenie.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV não se responsabiliza por traduções defeituosas.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV не несет ответственности за некачественный перевод.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV nuk mban asnjë përgjegjësi për përkthime joadekuate.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.Kla.TV tar inget ansvar för felaktiga översättningar.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV ንዝኾነ ጉድለት ትርጉም ዝኾነ ይኹን ሓላፍነት ኣይቅበልን እዩ።kla.TV accepts no liability for defective translation.kla. Walang pananagutan ang TV sa mga depektibong pagsasalin.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV عیب دار ترجمہ کے لیے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔kla.TV accepts no liability for defective translation.Kla. TV không chịu trách nhiệm về bản dịch không đầy đủ.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.kla.TV accepts no liability for defective translation.
This is a modal window.
Невозможно загрузить видео из-за сетевого или серверного сбоя либо формат не поддерживается.
Россия: цифровизация школы - эксперимент над людьми глобального масштаба?
26.05.2021
www.kla.tv/18855
Цифровая школа - острая тема настоящего времени и касается она не только здоровья детей, но и здоровья всего населения планеты. Данная тема сегодня поднимается на общественных площадках в международном масштабе. Всякая пассивность по отношению к этому развитию может наложить неизгладимый отпечаток не только на физическое и психическое здоровье людей, но и на весь общественный строй мира.
[подробнее]
Россия: цифровизация школы - эксперимент над людьми глобального масштаба?
Скачать передачу и аксессуары в нужном качестве:
Право пользования:
Стандартная лицензия Kla.TV
Темы А-Я
Пожалуйста, введите поисковый запрос или воспользуйтесь сортировкой по алфавиту


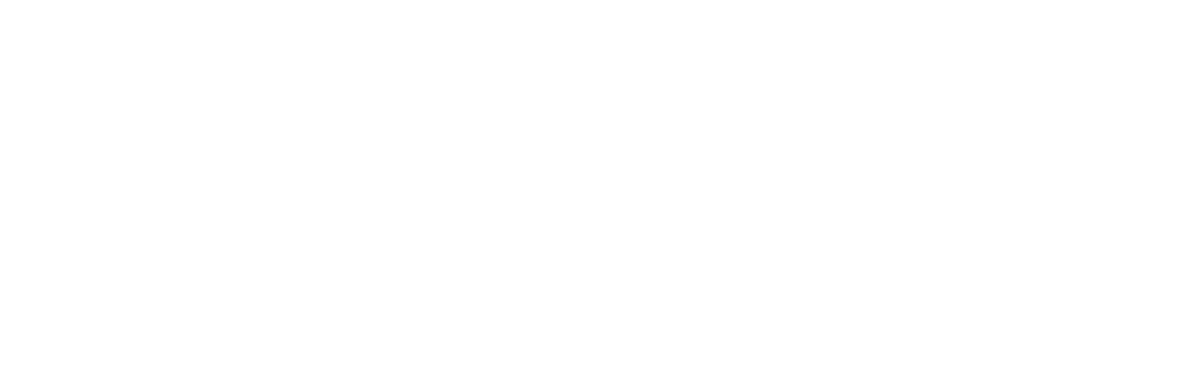

26.05.2021 | www.kla.tv/18855
Модератор: Привет! Это международный просветительский канал Kla.TV с репортажем из России. Возможно, эпоха, в которую мы сейчас живём, войдёт в историю как время глобальной цифровизации: электронный документооборот, онлайн-конференции и концерты, интерактивные музеи и выставки, интернет вещей и дистанционное обучение. Наверняка, у всего этого есть позитивные стороны, но какова конечная цель и кто за этим стоит? Этот вопрос пока остаётся открытым. Но об этом немного позже. Интервьюер: В прошедшем две тысячи двадцатом году многие из нас прочувствовали на себе все плюсы и минусы дистанционного обучения. Как это было для вас? Женщина: Да, мы отказались от дистанционного образования. Получали задание в группе. Ребёнок делал эти задания и по электронке отправляли учителю для проверки. Молодые люди: Ну, я считаю, что 2020 в этом плане оказался очень убыточным для молодежи. Мы очень многое нагоняли сами. Девушка: Было неудобно. Было больше времени, да, свободного. Но всё равно, в школе лучше. Молодые люди: Знаете, как по-моему, лучше ходить в школу, потому что там лучше объясняют, и ты лучше усваиваешь какую-либо тему. Женщина: На данный момент это меня не касается. Но, я думаю это коснётся, так как у меня на данный момент внучка. Но хотя она ещё маленькая, но время бежит быстро. Я бы хотела, чтобы она училась очно. Только очно. Интервьюер: Как вы думаете, если учителей заменят компьютеры, это улучшит качество образования? Женщина: Я думаю, что это не улучшит качество образования, а наоборот принесёт вред и детям, и учителям тем, что будут разрушены вот эти живые взаимоотношения с учителем, между одноклассниками. Девушка: Ну, я считаю то, что качество образования это не улучшит. Потому что есть такие вопросы, на которые могут ответить только учителя. Молодые люди: Компьютер, он по программе, и это подход не к каждому ученику. Не каждый поймёт такое. Нет, ни в коем случае. Помимо качества образования, также очень важен процесс социализации. И школа в полной мере, я считаю, воздаёт эту потребность. Также мы сталкиваемся с буллингом*, с друзьями, в то же время, с учителями, более старшими в отличие от нас, опытными людьми. Мы учимся общаться с ними, то есть находиться в социуме. И, конечно же, учителя всегда можно спросить напрямую вопрос какой-либо. Он всегда удобней расфасует тему понятным ученику языком. Ну и к тому же с компьютером ты так не поговоришь, как с учителем. А учитель всегда поддержит или отчитает, если ты что-то неправильно делаешь. Модератор: Очевидно, что и в вопросе цифровой школы много неясностей и противоречий, которые могли бы быть решены открытой общественной дискуссией. Именно этого и не хватает. Информация однобока и безальтернативна. Но это поправимо. Как раз сегодня, в этом здании за круглым столом соберутся специалисты из разных областей: образования, медицины, права, чтобы открыто высказаться по данному вопросу. Вам интересно? Заходим! Чекан Е.В Уважаемые коллеги, внимание. Мы начинаем наш круглый стол, международный круглый стол, и тема нашего круглого стола называется: «Цифровая школа как новая «нормальность» – путь к деградации человека». Тема довольно-таки острая, поскольку вопрос касается не только здоровья детей, но и в принципе, здоровья всего населения планеты. Данная тема поднимается на государственных площадках в разных странах, на общественных площадках в международном масштабе. Поэтому сегодня у нас на связи, присоединяется к нашему круглому столу, учёный из Германии, Манфред Шпитцер, профессор психиатрии Ульмского университета, директор центра нейронауки психиатрической университетской клиники в Ульме. Здравствуйте. Шпитцер М. Исследовались взаимосвязи между объёмом инвестиций в цифровую инфраструктуру школ и результатами учебного процесса. Учащиеся школ из 15-ти стран приняли участие в этом исследовании, и статистика такая: чем выше уровень капиталовложений в цифровую инфраструктуру школьной системы той или иной страны, тем хуже академическая успеваемость по математике. И использование компьютеров в школах, согласно результатам многих исследований, показывает и свидетельствует о том, что вследствие этого у нас академическая успеваемость учащихся заметно ухудшается. В том, что касается здравоохранения, здоровья, образования нас, наших детей, а следовательно в том, что касается будущего нашего общества – всё это мы не вправе отдавать на откуп стремлению к максимализации прибыли со стороны крупнейших мировых фирм. В Германии были проведены инициативы дигитализировать, цифровизировать школу, когда закрывали школы. Это показало, насколько всё-таки важна деятельность учителя. И сейчас уже все это знают, насколько учитель важен. И очень важный момент в том, что компьютер должен быть приложением к учителю, а не учитель к компьютеру. Чекан Е.В. Думаю, Германию и Россию, если мы будем совместно сотрудничать, всё-таки услышат. И государство отдаст приоритет здоровью детей, а не корпорациям IT-гигантам. Четверикова О.Н. Цифровая школа – это не просто реформирование образования. Это изменение концепции самого человека, это изменение концептуального видения человека, это изменение понимания морали и нравственности, это изменение человеческих отношений. В итоге это, фактически, изменение концепта самого общества. И при всей инновационности этой идеологии в реальности речь идёт о возвращении к рабству только на другой технологической основе. То есть фактически речь идёт о создании системы нейрорабства, нейрорабов. Это удар по физическому и нейропсихическому здоровью детей, связанных с электромагнитным облучением. Это удары по умственному развитию, связанные с применением технологий, которые блокируют развитие мозга детей, которые ведут к атрофии участков мозга и проявлению цифрового слабоумия. С этим связанно формирование сильнейшей интернет- и гаджет- зависимости. Далее – это клиповое мышление, это неспособность думать, это неспособность размышлять, это прагматизм и устремлённость на практический результат, то есть на очень узкие цели. Далее, следующий аспект – это геополитический, или аспект безопасности. Дело в том, что проект цифровая школа – это часть проекта цифрового государства и цифрового города. Соответственно цифровая медицина, цифровое управление, цифровая школа, управляемая искусственным интеллектом вместо человека, – всё это является единой системой вот этой цифровой платформы управления. Всё это складывается под контролем невидимого класса, который фактически представляют вот эти западные IT-кампании. Цифровая школа – это крупный коммерческий проект. Закупки технологий осуществляется вне зависимости от того, нужны они или не нужны. Поэтому у нас есть школы, в которых нет элементарных вещей, – в которых, извините меня, нет туалетов в местных поселковых школах. Но зато там внедряется Wi-Fi. У нас есть школы, которые стоят совершенно разорённые, но в них ставятся электронные доски, – каждая из них стоит до полумиллиона рублей. Мы сегодня реально собрались перед таким вызовом, чтобы положить начало дискуссии; чтобы, в первую очередь, создать научное ядро с рабочими научными группами. И второе – на базе этого научного ядра, научной ассоциации, создать научно-общественную ассоциацию, которая реально сможет изменить ситуацию. Потому что допускать реализацию национального проекта «Цифровая школа» – это значит, фактически уничтожить наше будущее. Григорьев Ю.Г. Вопрос, который сейчас как бы обходят и иногда просто забывают – это здоровье детей, которые обучаются там. Вот этот раздел, он упущен. И я считаю его очень важным. Почему? Потому что ребёнок всё время будет в контакте с электромагнитными полями. Электромагнитные поля относятся к вредным видам излучения. Как бы это кто-то не хочет слышать или хочет – это вредный вид излучения. Конечно, беспокоят опухоли. Но беспокоит и функциональное состояние, а никто не смотрит. Уже я не говорю про лобби, – цифровое, так называемое, лобби. Их задача максимально всё включить и так далее. И они забыли, что там ребёнок выброшен. Кстати, мы и в редакцию газеты написали об этом, – молчат, редакция не отвечает ничего. Я им написал: "Вы понимаете, – вот эта статья, она на всю страницу. Вся страница, и ни одного слова "ребёнок", "школьник", не упоминается". Надо через прессу активно объяснять вредность, что это излучение вредное. То есть нужно ввести добровольный риск: чтобы ребёнок понял, но родители тем более, что, вот, эти все публикации, где вообще ничего не упоминается о детях и так далее... – даже в столовых Wi-Fi. Они не понимают опасности. А вот если они осознают, тогда они будут учитывать это. Во-первых, имеется международная комиссия по исследованию опухолей. Она вынесла решение, что электромагнитные поля мобильных телефонов являются промоутерами опухолей мозга, – ВСЕ! Ну, вот, эта публика, которая работает в этих комиссиях, не признаёт. Странно, но так. Больше того, после этого вышли материалы: были проведены в Америке хронические опыты, – блестяще поставлены с точки зрения радиобиологии, блестяще были поставлены! Стоимость этого 300 млн. долларов, где показали, что при облучении в течение двух лет крыс опухоли возникают. Не верят. Говорят: "Это надо на людях". Но, во-первых, мне непонятно, как на людях можно это? А во-вторых, когда они сами определяли нормы по тепловым эффектам, – но это отдельный вопрос, – то они ставили на крысах, и нормы вошли, а эти нет. Но еще больше: через год итальянский институт, очень известный, который много лет работает с разными фактами, провел опыты, когда облучали крыс от рождения и до смерти, потратили 25 млн. евро, и они показали, что те уровни, которые там были использованы, которые соответствуют базовым станциям, приводят к развитию опухолей мозга. Газенко Р.В. Что нам предлагает цифровая система? – Прежде всего, планшетную форму обучения. У ребенка изъяли из рук ручку. Вот этот предмет формирует активную личность. Отсутствие активного словарного запаса, – как собака: «Я все понимаю, только сказать не могу», – формирует будущего цифрового раба. Общество, которое формирует потребителя, будущего не имеет. Оно превращается в бессловесное, без активного запаса массу, которая будет ждать, когда сторонний оператор наполнит кормушку, если будут себя хорошо вести, или не наполнит. Социальные последствия общества потребления понятны: то есть у народа-то будущего нет. Почему? Потому что отсутствие активного словарного запаса, активно используемого сознанием, не дает возможность формировать образ будущего. Но давайте представим себе, что опция нормального образования станет элитарной. Будет создан класс будущих управленцев, при этом обладающих определённой иллюзией, что они обществом управляют. Проблема цифровизации всего и вся заключается в том, что национальные управляющие контуры в такой системе не нужны. И это, пожалуй, очень серьёзный аргумент для разговора с теми, кто олицетворяет нынешнюю власть, чтобы им просто сказать: «Друзья, если вы будете продолжать действовать в таком направлении, то у вас личного будущего в этой функции просто нет». Мой вывод жёсткий: мы не просто на пороге цифрового социального фашизма, мы уже находимся внутри этого проекта. Хорсева Н.И. Разрабатывает нечто, что преподносится зачастую как супер программа. Ну, и в основе этого где-то там, когда-то, упоминается электромагнитная безопасность всего вот этого, уже навязанного нам цифрового образования. При этом, как вы видите, пирамида-то неустойчивая. Неустойчивая потому, что в основе-то должна быть электромагнитная безопасность образовательной среды. И на этом основании должно строиться всё остальное. Нормирования нет. Все нормативные документы выхолощены с точки зрения нагрузок, даже предполагаемых. Ребёнок оказывается просто в электромагнитном смоге с непонятными технологиями цифр, с непонятными контентами, которыми он должен пользоваться. Несмотря на большое количество решений международных организаций, посмотрите: здесь лобби просто сумасшедшее. С катастрофическими скоростями распространяются новые технологии без оглядки вообще на человека. Я уж не говорю о ребёнке, потому что он вообще за скобками где-то там. А ребёнок-то, он во всём этом электромагнитном смоге не только внутриутробно находится, но и появляясь на свет, на него всё это просто обрушивается. Никто ничего не говорит о нагрузке. Киселёв С.Ю. Я хотел сегодня рассказать с позиции детской нейропсихологии. То есть это наука, которая изучает, в частности, развитие психики и мозга ребёнка. В международной классификации болезней 11-го пересмотра введён новый диагноз, и он называется «digital addiction» – «цифровая зависимость». Дело в том, что если ребёнок очень рано, начиная с дошкольного возраста, окунается в цифровой мир, то у него возникает так называемый патологический вариант этой цифровой зависимости, который, образно говоря, если так очень просто сказать, тренирует мозговой механизм зависимости, который в дальнейшем, как бы это ни звучало парадоксально, повышает риск развития уже других форм, – в частности, химической зависимости: например – алкогольной, наркотической зависимости и т.д. Если ребенок проводит много времени в дошкольном возрасте, в частности, в виртуальном мире, то у него постепенно начинает формироваться так называемый, – ну, я его называю, – виртуальный мозг. То есть в мозге начинает формироваться репрезентация не реального мира, а виртуального мира. Цифровой мир так устроен, что он провоцирует два симптома, которые мы наблюдаем у детей с аутизмом. Значит, первый симптом – это то, что эти дети живут, как известно сейчас с точки зрения современных исследований, в так называемом мозаичном мире, где мозг не наблюдает, не воспринимает те связи, которые существуют между разными событиями, разными ситуациями. Но самое-то главное: ещё проблема в том заключается, что у детей второй симптом аутиста заключается в том, что у них очень плохо формируется так называемый социальный мозг, то есть наблюдается дефицит социального мозга. Что это такое, что это за конструкция? Это как бы те части мозгового механизма, которые как раз обеспечивают взаимодействие ребёнка с социальным миром, с другими людьми. Вы знаете, что у детей с аутизмом очень большая проблема с коммуникацией. Они не могут нормально, эффективно коммуницировать с людьми, даже с мамой. Я уж не говорю о других. И, как я вам показал только что, виртуальный мир, включая, кстати, и телевидение, – телевидение тоже является одним из вариантов такого виртуального мира (это некий гаджет, старый уже гаджет, но он до сих пор действует и, как вы понимаете, будет продолжать действовать), – он как раз и формирует вот этот как бы ущербный, односторонний, неполный опять же образ человека, – ну, даже не человека, а социума, социального мира, с которым взаимодействует ребенок. Система образования – это, по сути дела, некая передача знания от учителя к ребёнку, где учитель превращается в такую своеобразную говорящую голову. А на самом-то деле, главная миссия и роль заключается в том, чтобы снять страх перед новым знанием. Так вот, что делает учитель, образно говоря, перед учениками? Он, по сути дела, вот, пример такой, транслирует знание: "Смотрите: вот, я этим знанием владею, и видите - я не умер, я успешный, я весёлый, я счастливый. То есть, он даёт детям невербальный посыл: не то даже, что он говорит, не важны те слова, которые говорит учитель во время урока, а то, как он это делает. Виртуализация и цифровизация школы может привести к тому, что у детей на самом деле будет возникать так называемое формальное, можно сказать, мёртвое знание, а не то живое знание, которое передаётся живым человеком. То, что сейчас происходит уже такая «огульная» цифровизация – она не обоснованная, она не имеет под собой научного обоснования. И поэтому необходимо проводить такое научно-обоснованное внедрение цифровой среды в систему обучения, если мы не будем это делать хаотическим образом: это может привести к каким-то очень необратимым последствиям в развитии ребёнка и, вообще, системы образования. Афанасьев Ю.В. Много мы сегодня говорили о цифровом влиянии на подрастающее поколение. Но, мне бы хотелось, коллеги, заострить внимание вот на каком аспекте: много о школе, много о влиянии, но мы должны чётко понимать, что корень проблемы по бесконтрольному использованию интернет-технологий, гаджетов – это, всё-таки, проблема из рода «вне школы». То есть мы должны гораздо раньше отреагировать, и гораздо раньше мы должны об этом говорить. Вход наших детей в интернет-пространство, на данный момент, осуществляется где-то в возрасте 3-х – 4-х лет. То есть, когда мы говорим о школе, о контроле, всё-таки мы должны понимать, что дети, несмотря на все наши предупреждения, всё-таки являются активными потребителями интернет-технологий. И тут всплывает какая проблема? Тут всплывает проблема родительской компетенции, родительской настороженности. А как же вообще родители относятся к использованию интернет-технологий внутри своих семей? Мы исследовали детей от 3-х до 6-ти лет. 36% детей проводят, – опять же со слов родителей, – 30 минут, 48% – более часа и 12% – более 3-х часов. То есть мы видим, что 12% детей уже проводят сверх норматива, – ну, скажем так, – всех источников, которые бы не давались. Это дети в зоне прямого риска от негативного влияния интернета на развитие ребёнка. Второй вопрос: проверяете ли вы историю браузеров у своих дошкольников? Этот вопрос вызвал наибольшее впечатление. То есть 43% родителей сказали: «Да, проверяем». 44% удивлённо сказали: «А что там проверять, это же ребёнок?» То есть те родители даже не отслеживают, что они смотрят. И 13% заявили, что в этом нет никакой необходимости. Вот, у меня в кабинете родители спрашивают: «А что мне делать здесь и сейчас?» И, как говорится, реагировать надо быстро. И поэтому единственным вариантом решения проблемы я вижу только усиление просветительской работы среди родителей. То есть нам в любом случае надо формировать внутри наших семей отношение именно к гаджетам, употреблению внутри своей семьи. Хотим мы или нет этого – это данность, наш ребёнок всё равно будет вводиться в цифровой мир. Да, как коллеги мои отметили, очень важно максимально оттянуть момент вообще первой встречи с гаджетом: удастся до 3-х лет – хорошо, до 5-ти – ещё лучше, до 7-ми лет – великолепно. Закроем начальную школу для цифровизации вообще – достигнем многих результатов. Есть разные целевые группы, но родителей мы можем замотивировать. Вы поймите одно: мотивация родителей в этом случае будет ключевая. И чем больше мы будем рассказывать о негативном влиянии бесконтрольного пользования, тем больше на эту точку-мотивацию мы будем наступать. Коваленко И.С. По сути дела, это просто приговор детскому здоровью, и как все говорили, будущему наших детей. С этим нужно что-то делать. Родительское сообщество ждёт решения от научного сообщества, причём как можно быстрее, потому что многочисленные запросы родителей упираются как раз в железобетонную стену лобби. Принимаются такие требования, нормативные акты, которые, ну, даже стыдно назвать каким-то документом. Чекан Е.В. Вы смотрите, какая складывается ситуация интересная. У нас выходит постановление правительства об эксперименте, – вы только вдумайтесь: об эксперименте над детьми. И ни слова нет по поводу контроля за здоровьем детей и всех участников эксперимента. В участниках эксперимента у нас Министерство цифры, у нас Министерство образования, просвещения, у нас родители, дети. Но если мы говорим, что участвуют в эксперименте люди, живые люди, которым наносится вред здоровью, почему не включено Министерство здравоохранения Российской Федерации? Вот самый главный вопрос: почему? Загладина М.Т. И вот, на конференции в общественной палате буквально пару дней назад были озвучены такие цифры: каждый второй подросток шесть часов в день и более проводит онлайн, проводит в интернете. Каждый четвёртый подросток девять часов, – вдумайтесь в эти цифры, – девять часов и более находится в интернете, в гаджетах. То есть, он встаёт с телефоном и он засыпает с телефоном и ест и всё прочее. В общем, рисков, конечно, очень много. Может, ещё какая-то будет пандемия, мы же не знаем. И мы опять сядем все, уйдём в эту виртуальную реальность. И тогда, действительно, мы не только на пороге тотальной цифровизации, а мы уже в её системе, – я согласна здесь с Газенко Романом Владимировичем. И поэтому, конечно, нужно бить в колокола, нужно делать, нужно как-то организовываться, это же наши дети. Новиков В.В. И когда я сегодня слышал, что мы приближаемся к страшной ситуации ... Коллеги, увы. Мы в ней. Мы в ней на самом деле уже, потому что мне пришлось работать с очень многими детьми с нехимическими зависимостями. Работать с ними подчас труднее, чем с детьми, зависимыми от ПАВ. То есть мы говорим: «Давайте посмотрим, ваш ребёнок зависим или независим от интернета. Сколько времени он проводит в сети?» Я сегодня слышал страшные цифры: до девяти часов, а может быть и более. Что это, как не зависимость? Ну и наконец, то, о чём все родители, практически, говорят, что так и происходит – это то, что в наркологии называется «абстиненция» или «похмельный синдром». То есть, вне гаджета ребёнок начинает испытывать изменение настроения, так называемую дисфорию – раздражительную злобность. Как только гаджет ему в руки попадает, всё становится хорошо. Я иногда предлагаю детям, которые говорят: «Я вообще ни от чего не завишу», – ответить на вопрос: «Сколько времени ты можешь провести без телефона?» Выясняется, что крайне мало. То, что касается цифровизации обучения: будет ли она стимулировать зависимость? Если она будет проводиться бесконтрольно – безусловно да. Потому что помимо того, что ребёнок и так торчит в сети, он будет ещё и под этим. Падалко О.В. Приведу слова Адольфа Ферьера, швейцарского педагога и публициста, который написал их задолго до появления интернета в нашей жизни: «Ребёнок любит природу, поэтому его замкнули в четырёх стенах. Он не может жить без движения, поэтому его принудили к неподвижности. Он любит работать руками, а его стали обучать теориям и идеям. Он любит говорить – ему приказали молчать. Он стремится понять – ему велели учить наизусть. Он хотел бы сам исследовать и искать знания, но ему дали их в готовом виде. И тогда дети научились тому, чему никогда бы они не научились в других условиях. Они научились лгать и притворяться. И вот, что произошло: люди зачахли, стали вялыми и пассивными, утратили всякий интерес к жизни. Они лишились счастья и здоровья. Пропали любовь и доброта. Мысли стали сухими и серыми. Души зачерствели, сердца озлобились». На самом деле, эту картину мы увидели весной 2020 года, когда, как это уже было сказано коллегами, в таком, можно сказать, принудительном порядке перевели наших детей на дистанционное образование, и они оказались закрытыми в четырёх стенах один на один с компьютерами и с гаджетами. Мы выступаем за то, чтобы новые технологии использовались, но использовались во благо наших детей. И безусловно, любой родитель будет в первую очередь беспокоиться о здоровье детей; в принципе, наверное, во вторую очередь – уже об образовании, потому что никакие технологические новинки, никакие цифровые блага не будут в плюс нашим детям, если это будет отрицательно влиять на их здоровье. Чекан Е.В. В завершение данного круглого стола, мы подготовили проект резолюции. И все участники круглого стола констатировали, что внедрение экспериментальных проектов, связанных с риском для здоровья детей - недопустимо. Интервьюер: Скажите, пожалуйста, а вот каковы шансы, что нас услышит большая политика и будут приняты решения в пользу возвращения к классическому образованию? Четверикова О.Н. Вы знаете, мы должны исходить не из того, чтобы думать, услышат нас или не услышат, а думать о том, как не допустить вот этого преступного проекта, как остановить этот преступный проект. Вообще, в любом случае, когда ты начинаешь что-то делать, без веры в победу действовать бесполезно! Нужно обращаться к тем, кто хочет тебя услышать, или кому это нужно. Время пришло, понимаете, и такое, когда люди, духовно близкие люди по своему мировоззрению, они объединяются. Это как бы процесс. Кажется он идёт сам собой, потому что подобное тянется к подобному. Вот. Но на самом деле – это такая большая, очень интенсивная, интеллектуальная и нравственная работа. Она незаметна, но она есть. Если нет людей, если люди отказываются сами от участия в этой матрице, они ничего не смогут сделать. Мы понимаем, да, кто стоит за этим. С одной стороны, это крупные финансовые структуры. Это банки, это фонды, которые являются акционерами этих банков, которые являются дальше акционерами IT-кампаний, дальше являются акционерами фарма-кампаний. Всё это такой один большой конгломерат. Они боятся очень простой вещи. Они боятся того, что люди осознают их цели и задачи, в принципе осознают, что происходит. Они делают абсолютно всё для того, чтобы фактически люди пребывали вот в такой тьме. Они боятся, когда люди начнут осознанно всё делать. Когда люди, во-первых, осознают, дальше, когда люди начнут самоорганизовываться для того, чтобы этому противостоять. Причём, я говорю, не просто толпа, масса. А я говорю про всех: про учёных, про общественных деятелей, про специалистов. Вот, каждый на своём месте, вдруг осознав преступный характер того, что их заставляют делать, просто не будет это делать. Такая самоорганизация, которая никоим образом не является бунтом. А напротив - это как раз продуманная защита гражданских прав, политических прав, социальных прав. И очень важный для нас сейчас принцип – это гласность. Гласность и ещё раз гласность. Они очень боятся, когда оглашают их планы. Они очень боятся, когда высвечивают их вот эти все тёмные дела. Наша задача сегодня, сделать ту же гласность тоже этим прожектором, освещать вот эти все грязные, темные, вернее, извините меня, стороны, чтобы народ это знал. Эта цифровая матрица, она сама сгниёт, она грохнется, потому что там не будет людей. Поэтому надо делать то, что мы можем. Надо исходить из того, что мы должны это сделать. Даже если это невозможно, всё равно мы, должны это сделать.
от -